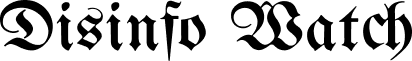Хамовнический районный суд Москвы на заседании 30 июня продлил срок содержания под стражей драматурга Светланы Петрийчук и режиссерки Жени Беркович, арестованных по уголовному делу об «оправдании терроризма». Дело возбудили из-за пьесы «Финист ясный сокол», в которой рассказывается о женщинах, которые уезжают из России в Сирию к участникам «Исламского государства». Петрийчук — автор пьесы, Беркович поставила спектакль на сцене театра. Они находятся в СИЗО почти два месяца. На заседании суда 30 июня Беркович выступила с речью, во время которой раскритиковала работу следователя, а также напомнила, что у нее есть две удочеренные девочки, которым необходимо, чтобы она была на свободе. Запись выступления Беркович опубликовал журналист Василий Полонский, Democracy News публикует ее расшифровку.
Мое мнение по данному ходатайству [о продлении меры пресечения] простое. Я считаю, что продление пребывания меня под стражей несправедливо, неправильно, не должно происходить. <…> Ваша честь, я поскольку занимаюсь театром, у нас принято репетировать, я репетировала легкую, остроумную, замечательную речь долго, но я посмотрела на свою семью в первый раз за два месяца всего происходящего (неразборчиво) и поняла, что ничего легкого и остроумного здесь не происходит. И два месяца все силы уходили на то, чтобы находить радость, позитив и поддерживать себя и всех остальных, но чего-то силы кончились. Поэтому буду говорить эмоционально, зато коротко. Мы находимся на этапе предварительного следствия <…> . Что такое расследование? Мы все понимаем, что такое расследование — три вещи. Было, вероятно, совершено преступление, в это есть что-то таинственное и неустановленное, (неразборчиво) и есть, собственно, процесс расследования, выяснение этого таинственного и неустановленного. Я, убей бог, за два месяца так и не поняла, что в этом невероятно запутанном деле такого таинственного и неустановленного. Не говоря о том, что я абсолютно уверена, что никакого преступления не происходило.
Неустановленное лицо написало пьесу… Это неустановленное лицо Шекспир написало много пьес и (неразборчиво) есть разногласия. Здесь установленное лицо Светлана Петрийчук написала пьесу на тему невероятно актуальную. В 2016, 2017, 2018 годах об этом снимались сериалы — о женщинах, которых вербуют в ИГИЛ (запрещенную в Российской Федерации организацию), говорили из каждого вообще утюга, не говоря о федеральных каналах, были государственные заказы. О том, что профилактика терроризма, борьба с терроризмом это главная тема, я слышу последние, ну, приблизительно 20 лет. Это одна из главных тем для нас для всех — как для государственных органов, так и для людей, которым просто не по барабану, что происходит в обществе. У меня две дочери, одной 17 [лет], другой 19 [лет], мне не все равно.
Едут женщины в Сирию, когда полюбили, не полюбили или они просто идиотки, на данном этапе не важно, не имеет значения. Точно так же не имеет значения, хороший это спектакль или плохой. Он может ужасный и не талантливый, но этот спектакль в отличие от многих произведений, по поводу которых мы можем спорить, такое прочтение, сякое прочтение, диссертации писать… Про спектакль «Финист Ясный Сокол», думаю, что диссертаций не будет. В этом спектакле ясная, внятная, понятная, приблизительно одна мысль. Он идет час тридцать пять [минут] или двадцать пять [минут], я не помню, это не философский трактат. Ясная внятная мысль, что существует однозначное зло, чудовищное опасное зло. И оно существует. Вот этот самый терроризм. Есть еще тоталитарные секты, это все приблизительно один механизмы. Есть реальные конкретные женщины: молодые, старые, умные, глупые, разные, очень разные, в разных обстоятельствах, которые в эту самую Сирию уезжают. Либо они погибают там, иногда успевая еще кого-нибудь поубивать, кроме себя, иногда не успевая. Либо они возвращаются и садятся здесь в тюрьму. С одной стороны, справедливо, с другой — с ними не ведется никакой профилактической работы ни до ни после, и у нас нет никакой гарантии… Нужно ли этих женщин сажать? Да, часто нужно. Есть ли у нас гарантия, что они выйдут и потом не продолжат? Да нет, нет такой гарантии.
Суд в этой пьесе показан не очень симпатично, но, ваша честь, суд от утренника в детском саду в России и во всем мире отличается. Было бы странно, если бы суд был показан каким-то невероятно милым и нежным.
Одна мысль, единственная: это происходит, зло происходит, преступление происходит. Соучастие в преступлении, к сожалению, тоже происходит. Невозможно об этом говорить, об этом не говоря. Невозможно показывать завербованных женщин — многие из которых действительно никуда не уехали, в общем, даже практически не попытались, но мы сейчас не их судим, а нас со Светланой — и при этом о них не говорить, при этом их не показывать.
Я один раз скажу про нашу замечательную экспертизу, потому что, честное слово, это не самая вообще приятная тема для разговора, просто в моем деле нет больше ничего. Вообще ничего! Буквально ничего! Кроме допроса двух свидетелей, оба из которых говорят о том, что был прекрасный спектакль и все со спектаклем хорошо.
Так вот, чтобы вы просто понимали, в этой самой замечательной экспертизе нам вменяется две вещи. Жест, вот такой (Беркович в этот момент показала указательный палец вверх, пишет «Медиазона» в своем онлайне с суда — ). Там много жестов и один из них вот такой, я не преувеличиваю. Потому что это жест, который используют боевики «Исламского государства» (неразборчиво). А второе, что нам вменяется — это инструкция по ношению хиджаба. Причем инструкция такая — положите платок на голову, откройте рот, концы завяжите под подбородком. Ну, инструкция по ношению платка в православной церкви приблизительно такая же. Я цитирую прям дословно.
И вот с этим всем невероятным объемом расследования, нечеловечески сложного и запутанного дела, мы столкнулись 4 мая, проснувшись утром и не успев выпить кофе, и с тех пор за два месяца, что мы сидим в тюрьме — мы говорим СИЗО, это что-то такое… Это тюрьма. У нас дежурный говорит: «Беркович, не превращайте мне тюрьму в детский сад». Вчера сказал по какому-то там поводу. Я, честно говоря, хотела бы, но она чего-то не превращается (в зале смеются). За два месяца не произошло ничего. Как сказал один великий русский писатель, на всякое безобразие должно быть свое приличие. В этом деле не появилось ни одного нового документа, с которым мы могли бы хоть как-то ознакомиться, кроме таинственного допроса господина (фамилия на аудиозаписи звучит неразборчиво — ), который не имеет никакого отношения к этому проекту, не имеет и не имел. Мы знакомы с этим человеком, мы знаем — не имеет и не имел. Все, больше ничего, ни одной бумажки, ни одного документа.
Деструктологическую экспертизу больше я обсуждать не хочу. Я режиссер (неразборчиво) пожилой и опытный, и первый спектакль я поставила, когда еще никакой деструктологии в жизни не существовало. И так просто нельзя, так не может быть — два месяца не происходит ничего. Мы не разговаривали со следователем ни разу, не добавилось ни одной бумажки. Я в своей профессии не могу себе представить, что приглашаю зрителя в театр, даже бесплатно, на показ для мам и пап, и у меня там декораций нет, в буфете ремонт, на сцене сидит монтировщик Вася и кое-как пересказывает, что Ромео там любил Джульетту и чего-то с ними случилось. Потому что у меня такая работа, я — режиссер (неразборчиво). Я, вообще говоря, полагала всегда, что у следователя работа расследовать. В чем заключается расследование, я не понимаю, в чем заключается преступление, я не понимаю, в чем заключаются тайны и загадки этого преступления, я тоже не понимаю. Заканчиваю говорить про наше дело и говорю теперь про то, по поводу чего постараюсь говорить быстро, чтобы не заплакать.
Тем временем два месяца мы находимся в тюрьме. На воле находятся двое моих детей, одна из которых несовершеннолетняя, вторая — совершеннолетняя, обладающая довольно серьезными ментальными диагнозами, обе девочки были мною удочерены. Я начинаю разговаривать…(неразборчиво), короче, удочерила я обеих девочек. Я вас очень прошу, ваша честь, ознакомиться с экспертизой, которую мы приложили, я бы очень просила моего защитника небольшие фрагменты озвучить, потому что это важно.
В этот момент судья говорит: Я поняла вас, спасибо. Если вы сочтете необходимым дальше что-то дополнить…
Да, сейчас два слова скажу и прекращу. <…> Я бесконечно говорю, что, разумеется, я говорю о том, что хотела бы, чтобы меня освободили полностью, потому что это справедливо, милосердно и безопасно. Но, честно сказать, я сейчас мама, а не режиссер. Надо сидеть дома — я буду сидеть дома! За два месяца, господин следователь, можно было придумать хоть одно, хотя бы для вида, обоснование, почему нельзя меру пресечения изменить на (неразборчиво) жесткую — сидеть дома. Не пользоваться фейсбуком — это большая пытка в данном случае, но ничего, я за два месяца привыкла. Просто иметь возможность обнять детей, которые сходят с ума в буквальном смысле слова. Которые находятся в опасности, несмотря на то, что у них есть замечательный отчим, у них есть замечательная семья, родня и так далее (эту часть речи Беркович говорит сквозь слезы — )
Четыре года мы работали над тем, чтобы они по ночам не кричали и не рыдали, что мама исчезнет, что маму посадят. Они знают, что такое мама в тюрьме. Они провели большую часть жизни в детском доме. Они знают, что если у ребенка мама в тюрьме, то эта мама не вернется, и ты останешься в детском доме. Так не может быть! Так по закону просто не может быть, то, что происходит сейчас. Всё, спасибо.